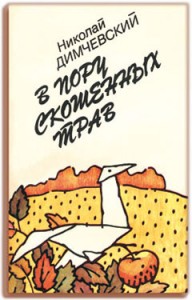
Умная и добрая книга
«В пору скошенных трав» Николая Димчевского – умная и добрая книга о жестоких временах. Гражданские и мировые войны ушедшего в прошлое ХХ века выкашивали миллионы жизней. Хрупкость бытия незаметного, скромного, трепетного перед проносящейся где-то совсем рядом смертоносной косой передаётся и названием, объединяющим две повести и два расположенных между ними рассказа, один из которых дал сборнику имя, а другой сентиментально-лирическую тональность.
Композиция сборника образует своеобразный складень, общий замысел которого проясняется в подспудном диалоге с читателем постепенно, после прочтения всех внешне самостоятельных частей. Рассказы естественно соединяются с повестями, образуя единую в своём разнообразии повествовательную ткань книги. Сами повести в свою очередь фактически включают в себя несколько вставных новелл, среди которых есть имеющие и самостоятельное значение: истории самоубийства азартного картёжника помещика Подзолина и теряющего всю свою семью цыгана («Дед»), история лёгкой и красивой жизни московской девушки Ляли и фронтовая история увечного инвалида Алика («Только не забудь»).
Первая повесть «Дед» о старом деревенском фельдшере, судьба которого переплетена с судьбой его внука, а завершающая «Только не забудь» – о московском мальчике, который бы мог быть внуком этому фельдшеру. Обе повести объединены темой Великой отечественной войны. По стечению обстоятельств, дед принимает участие в отправке своего внука Мити на войну, а московский старшеклассник Егор, которого по слабости здоровья на фронт не мобилизуют, живёт у своего деда в деревне перед поступлением в университет. Обе повести отличаются подробной реалистической манерой письма с множеством бытовых деталей, позволяющих во всей конкретике представить жизнь российской интеллигенции и в глубинке, и в столице.
В рассказах реалистическое письмо скрашено сентиментально-романтической тональностью.
Чувствительно-сентиментальная тональность задаётся образом семейства уточек, встречаемого обходчиком телефонной линии и напоминающего ему о его собственных детях, оставленных дома. Напарник этого героя, одинокий, обиженный и недовольный жизнью человек, умирает в конце обхода от приступа удушья. Натуралистическое и несколько суховатое название новеллы «Выводок с тридцать шестого километра», в сущности, сдобрено иронией светлой улыбки рассказчика, способного вместе со своим персонажем разделить радости семенных хлопот с заботливой кряквой, пекущейся о своих утятах. Даже и малая жизнь самых скромных из братьев наших меньших ценна сама по себе уж тем, что способна вызвать сочувствие. Жизнь, как бы мала и скромна она ни была, способна создавать вокруг себя эмоциональное поле добра. Жизнь рождает, поддерживает и питает вокруг себя добро. За пределами добра, доброго чувства, добрых отношений не может быть жизни вообще, а человеческой – в особенности. Такова бесхитростная мораль жанровой анималистической сценки с утятами, включающей эту сценку новеллы, книги в целом.
Уменьшая масштаб изображения, эта история принципиально значима для автора сборника, так как создаёт параллель, проходящую через единый ряд всех четырёх основных повествований, составляющих анатомический костяк сборника. Мысль создаваемой художественной параллели незамысловата. Выводок лесной кряквы согрел душу встречающему его на своём пути человеку. Так и судьбы героев книги. Быть может, согреют эти судьбы на торных житейских дорогах душу читателя.
Романтически напряжённый, резкий камертон задаётся предопределяющим название книги рассказом, который решён в традиционной для русской классики пушкинского века романтико-реалистической манере. Сын земского врача, деревенский учитель до конца жизни сохраняет возвышенное и одухотворённо чистое чувство к девушке, с которой когда-то в четыре руки играл на рояле после своего возвращения с фронтов гражданской войны, которая давно живёт самостоятельной жизнью, стала врачом, родила ребёнка. Старый романтик живёт светлыми воспоминаниями, читает по-французски «Дам с камелиями» Дюма, а в школе и дома учит немецкому сына своей давней и навсегда сохранённой симпатии, целомудренной любви. Он свободолюбив, ему претит «страшное время животного размножения безличности, ничтожества, угодничества и невежества», но время это гнетёт «ожиданием худа, которое всё шире, с плеча» «замахивает» «безжалостной косой». Спасаясь от этого гнетущего времени, он уходит в домашнюю, семейную, обыденно бытовую жизнь, но не приспособлен к ней, даже не догадывается о драматической силе и глубине порождаемых ею чувств и страстей. Война и репрессии проносятся мимо вояки и свободолюбца, сохраняют ему его маленькую жизнь и маленькую свободу. Великие исторические беды щадят старого деревенского романтика, но бытовая обыденность с её смертоносными подробностями не знает пощады, и герой умирает не от смертоносной косы, забывающего о самом его существовании времени, а от извечных противоречий человеческого бытия. Противоречия эти обретают в своём обострении вид сердечного приступа. Герой умирает от «пружиной» затаивающейся в груди болезни искушений страстями и познанием. И здесь автор использует библейскую образность яблока с древа познания. У Николая Димчевского эта образность развивается классическим для русского реализма параллелизмом двух начал – механического (пружина в груди) и зоологического (мудрый змей искушений, живущий на древе познания, прямо не называемый, но подразумеваемый всем авторским повествованием, неполной наводящей метафорой отдельных сцен). Этот параллелизм с явной и зримой очевидностью обнаруживает и подчёркивает принципиальное различие между автором-повествователем и героем повествования.
Автор-повествователь и герой повествования не совпадают в книге. В рассказе «В пору нескошенных трав» это несовпадение приобретает характер скрытой полемики. Автор помещает своего героя в обстоятельства библейских искушений и кровавого потопа, в которых судьбой каждому может быть дан спасительный ковчег родного дома и семейного очага, ковчег целостности личности. А герой романтически раздвоен, он любит оперетту и французскую беллетристику, но преподаёт немецкий язык, он любит одну женщину, а семью создаёт с другой. Автор-повествователь в своём личностном масштабе бытия и слова об этом бытии крупнее и значимее героя своего повествования, который ведёт философские разговоры о «Войне и мире» Льва Толстого и любит косить траву под перестук чугунных колёс проносящегося вблизи поезда (совсем как сам граф и основатель собственного учения Лев Николаевич Толстой), но не создаёт ни романов, ни собственной философии, ни оригинального вероучения, оставляя после себя лишь одного, верного и даже любящего, но так и не понимающего его ученика, примеряющего и на судьбу своего учителя, рубаки и романтика, любителя удалой крестьянской косьбы, мысль о скошенной траве человеческих жизней.
Русская классика со времён пушкинского Владимира Ленского была безжалостна к провинциальным романтикам. Яркий и своеобразный представитель русской классики ХХ века Николай Димчевский в своём осмыслении романтического типа личности верен этой реалистической традиции. И здесь в некотором смысле ближе собственного героя ему те книги, о которых тот говорит, которые тот читает, прежде всего, «Война и мир», задающая общий масштаб повествования. Как и Лев Толстой, вначале, в самом истоке его великих романов, в повести «Детство», а затем и в знаменитой сцене военного совета в Филях из «Войны и мира», Николай Димчевский вводит в своё повествование наивный и правдивый в своей незамутнённости детский взгляд. Но стремится не к усложнённой рефлексии рассуждений, а к выбору и установлению точки отсчёта и опоры всего создаваемого в произведении мира. Мир этот у Димчевского с толстовской последовательностью отрицает безумие войны. Эту же точку отсчёта избирал в изображении мирской деревенской жизни Иван Сергеевич Тургенев. Каждый русский школьник знает тургеневский «Бежин луг» и его мальчишек-рассказчиков из «Записок охотника» – ключевое произведение и для романов непревзойдённого мастера артистической, высокохудожественной прозы, плодотворное влияние которой чувствуется и в рассказах Николая Димчевского, а через них и в повестях «поры скошенных трав».
Осевыми, стержневыми для всех рассказов и повестей «нескошенных трав» надо признать именно детские образы, даже тогда, когда они не введены прямо, а даны в отражённом и преломлённом сознании героя. Как, например, в сценке с утятами, внутренне близкой обходчику, умиляющемуся в этих утятах своему собственному семейству и своим собственным деткам.
Детская тема получает своё развитие в самой композиции сборника «поры скошенных трав». Её высокий, романтически страстный и пафосный зачин задаётся вставной историей о самоубийстве цыгана, вся семья которого гибнет в проваливающемся сквозь тонкий лёд возке («Дед»). Не становясь ещё главным полноправным героем бытия и повествования о бытии, уходящий на фронт внук из повести «Дед» всею самостоятельностью своей жизни, своего сознания и своих поступков высвечивает, усиливает итоговое гибельное одиночество деда, в сущности большого и наивного ребёнка, остающегося в конце жизни наедине с глубоко чуждыми ему людьми. А вот мальчик из повести «Только не забудь» обретает в едва ли не эпизодически появляющемся своём деде одну из незримых основ своего хрупкого, детски беспомощного бытия. И этот мальчик – единственный главный герой повествования, подробно углубляющегося в конкретику его мировосприятия, его взрослеющего детского сознания.
Так развивается, усиливается, нарастает в книге тема детства, а вместе с ней и тема познания мира, принятия мира именно во всём знании о нём, в знании, позволяющем увидеть всю широту и всю ясность окружающей человека действительности. Для автора и его взрослеющего героя это возможно только в любви, в борьбе, в общем действии защиты своего мира любви. В повести, да и во всей книге немало ярких и запоминающихся персонажей – все они в целом сливаются в единую картину-портрет народа-победителя. Эта картина обретает своё завершение в финале книги, имеющем предельно обобщающий характер, оставляющий главного героя Егора Пчелина наедине с народом, с победой.
Финал книги и последней из её повестей – торжество победителей. Это картины всеобщего народного ликования, охватывающего Москву. Участвующий в стихийном всенародном празднике Егор переживает один из важнейших периодов своей жизни. Больших волнений стоило ему поступление в университет, и много новых впечатлений приносит учёба на первом курсе. Вокруг него теперь взрослые люди, вчерашние фронтовики. Он слушает лекции по истории и логике, впервые самостоятельно задаётся трудными и животрепещущими проблемами такой непростой и суровой современности. Приходят в его жизнь и первые горести любви, поиски своего идеала любви, а с этими поисками и первые разочарования, первые самостоятельнее и решительные шаги. И вот всё пережитое отступает перед одним необъятным чувством единения с народом, перед общей радостью постепенно, от салюта к салюту, от победы к победе возрастающего чувства – чувства свободы, радости, упоения силой и правотой своего народа, необъятными просторами своей Родины. С этим глубинным и одновременно высоким чувством приходит внезапное открытие будто бы лишь только ценой победы и триумфа дающегося прозрения, живого, а не умозрительного открытия «обширности мира», встающего вдруг вокруг юного героя. По своей силе и органике образной ткани финал в духе авторской стилистики «прозы скошенных трав» фактически создаёт впечатление пережитого сердечного приступа при парадоксально сохранённом ясном сознании, которое не только не теряется в этом незаметно переживаемом приступе, но даже и обогащается благодаря чисто физическому единению торжествующего свою победу народа.
Автор подробно и даже рационально аналитически фиксирует ощущения, переживания и мысли своего героя, становящегося участником общенародного праздника. Сам эпизод празднества становится важнейшим, итоговым для постижения формирования зрелого и осознанного патриотического чувства. Образы, весь художественно-психологический строй финальных сцен усиливаются готовящей, вводящей его первой сцены «прозы скошенных трав». Эта принципиально не получающая изобразительно-графической прорисовки сценка встречи героев, открывающая повесть «Дед». Сценка состоит из нового родного запаха, непривычного, но приятного и близкого, из ощущения колющихся жёстких волос, из почти звериной, «рычащей» ласки, а уже затем «полных нежности слов». Первородное, звериное чувство родства – это для автора один из важнейших истоков формирования зрелого и осознанного патриотического чувства его героев.
Национальное чувство широты, простора, как именно родовое русское чувство, придёт и к Мите из первой повести «Дед» о время его поездок, разговоров не просто с уважаемым в округе семейным патриархом, но умным, милым и добрым человеком. В этом образе старого мудрого фельдшера сказывается и внутренняя полемика автора с его героем. Дед, как и старый романтик, из рассказа «В пору нескошенных трав», говорит о Толстом, любит подобно Толстому косить траву. Дед необыкновенно увлечён личностью великого писателя, с необычайным пафосом говорит о том, что ему довелось однажды встретить Толстого, Горького и Шаляпина. Простодушная лубочность народных нравственных идеалов деда, сам портрет одинокого врачевателя решены в стилистике лесковского сказа. А фраза деда о том, что с Толстым он повстречался «рог к рогу», ясно и откровенно вводит в контекст повествования знаменитый образ, рождённый пером и мыслью Николая Семёновича Лескова. Это образ «Овцебыка». Лесковский «Овцебыка» во многом определяет и предполагаемый портрет деда, и столь характерное для деда чувство широты и простора родного края. Предопределяет этот образ и стремление деда служить людям, согласующееся у него с жизнью одинокого отшельника, погружённого в свой замкнутый мир. Дед легко вписывается в лубочную галерею стихийных праведников, народных умельцев Николая Лескова. Едва ли не боготворимый дедом граф Лев Николаевич Толстой – это элитарный, аристократический тип признаваемого и почитаемого народом идеала, но сам народ стихийною диалектикою природы порождает своих праведников, свои живые идеалы. Автор принимает лесковские реалии и толстовские идеалы своих персонажей, глубоко сочувствует и даже сопереживает каждому своему герою. Но автор – вступающий в третье тысячелетие человек ХХ века. Автор может продолжать и развивать традиции прошлого, но не может замкнуться в прошлом. У автора есть и свой, современный опыт, своё слово, своё видение и своя мысль о пережитом и увиденном, об осознанном в его авторском слове.
Книга Николая Димчевского сама по себе являет из себя извечную философскую ситуацию. Античный Сократ с его детскими вопросами и новейший Жан Поль Сартр с его дедом и внуком из повести «Слова» (1964) – они не чужды и России. Россия эта увлекалась Толстым, Марксом, Распутиным, Лениным, попеременно обращая свои взоры то на Восток, то на Запад. В этой России целые эпохи измеряются от царя, себе и всем бреющего бороду, до царя самолично бороду носящего. Даже Фёдор Михайлович Достоевский, который и с царями разошёлся, и с революционерами-нигилистами, и с позитивистами, даже Достоевский свой нравственный идеал в старцах нашёл, их одних противопоставив карамазовским безобразиям, в них, в старцах, находя не прокуроров и адвокатов, а учителей жизни. Современные гуру, пророки наставники и учителя жизни с Востока являют России отлично знакомое ей старчество, в котором тоскует она по своим сокрытым тысячелетиями волхвам и кудесникам, своему вечно древнему миру, который, в отличие от вечно юной античности, никогда не был юн. Соединение этих начал, историческое извечное предназначение России – в её православном выборе. Путь разрешения и исполнения этого предназначения проходит и через пору скошенных трав, саму книгу этой поры. И с учётом уроков русской классики в своих задачах, в своём стиле и в самой своей системе стремится к народному реализму, максимально приближающему его к читателю.
Всё повествование книги Николая Димчевского имеет в себе, в своей основе сказовую стилистику. Но стилистику лёгкую, умеренную, тонирующую речь живой и тёплой краской. Герои и предполагаемые читатели этой книги – люди простые. Такие фигуры, как Лев Николаевич Толстой и даже Максим Горький – это почитаемые и почти боготворимые фигуры иного, высшего масштаба, а сами они из лесковского мира. Стихийно порождает этот мир в диалектике своей природы и свою философию, и своих праведников. Опыт всепланетных военных катастроф и советской жизни ХХ века этим миром пережит. Ценность этого опыта в каждом отдельном человеческом случае и демонстрируют герои Николая Димчевского.
Книга содержит интересный и значительный исторический, этнографический, социальный и психологический материал, почерпнутый, отнюдь, не из одной только биографии автора, а составляющий своеобразный коллективный опыт. В осознании этого опыта общительная и любознательная личность Николая Димчевского соревнуется и с его профессией журналиста, и с его творческим призванием профессионального писателя, и с его критическим подходом опытного редактора к отображаемой и выражаемой жизни, к отображающему и выражающему эту жизнь художественному слову. Не последнюю роль играет в этом соревновании и профессия философа, полученная Николаем Димчевским в Московском университете вместе с дипломом о высшем философском образовании. Именно профессия, дающая исчерпывающее знание о человеке и его умственной деятельности, уме как таковом. Побеждает в авторе писатель, художник. Однако художник этот наделён сильным критическим сознанием, богатым личным опытом, врождённым, да к тому же ещё и университетским образованным. И это не только герои Димчевского в самые суровые годы войны с гитлеровской Германией любят и почитают гения немецкого просвещения Гёте, но и сам автор, как и все люди его времени, вышколенный немецкой классической философией, отдаёт ему должное. И не без чернокнижной фаустовской закономерности в «прозе скошенных трав» многие герои читают Льва Толстого. Во Льве Толстом видит свой нравственный идеал и сам автор. Любимейшие его персонажи даже внешне уподоблены Толстому, а в сценах пахоты и косьбы их образы прямо перекликаются с образом мудреца из Ясной Поляны. И за семейными, и за патриотическими сценами книги встают философские поиски исконно мужского общенационального начала России, которое сам автор ищет и обретает в Толстом, но в тоже время и вопреки Толстому, в споре с ним. К примеру, он принимает толстовское роевое сознание, но не отказывает каждому представителю этого роя ни в трезвом, критическом уме, ни в здоровом чувстве разумного эгоизма, культивируемом Николаем Гавриловичем Чернышевским, крупнейшим духовным писателем и философом России, о котором пишет сочинение Егор Пчелин из повести «Только не забудь». В отличие от Льва Толстого с его Платоном Коротаевым, круглое начало автор «прозы скошенных трав», вместе с глубоко близким ему Митей, видит в матерински женском, а не в русском вообще, которое несёт в себе и колючую, властную, мужскую природу. Нужно отметить, что многие мужские герои вызывают у автора чувство жалости. Они по-детски беззащитны, часто это люди телесно слабые, изнурённые голодом и израненные войной. Они принципиально обычны, не отличаются какими-либо богатырскими способностями. И здесь парадоксально сказывается естественная тоска по сильной личности, выраженная и в самой заглавной метафоре книги. Нет, философ и художник Николай Димчевский не может согласиться с мыслями своих героев и старшего, и самого младшего поколения о том, что судьба человека траве подобна, что «худо» – это категориально плохо. Выкошенная войнами страна всё-таки богата и животворна. Однако сильна эта страна, отнюдь, не архаичным в своей наивности патриархальным толстовством. Она это толстовство любит, гордится им, от него ведёт ближайшие корни своего патриотизма, в нём пробует открыть для себя живую и зримую альтернативу маленькому и тщедушному вождю народов.
Читая Николая Димевского, нельзя обойти стороной классическую для российской словесности тему власти. Вождя этого взрослеющий герой финальной повести «Только не забудь» принять и понять разумом не может. Но сам он слаб и тщедушен в своей болезненности. Так же слаб его друг детства Алик с обезображенной ужасным ранением рукой. Соедините большую в детском восприятии фигуру архетипа всей книги – образа деда – с внуком, с ближайшим другом внука из повести «Только не забудь». В результате такого синтеза можно получить именно образ вождя, власти, не просто отеческой, а отеческой патриархально, своей, не сильной, самой нуждающейся в защите. Во взаимоотношениях внука и деда, категориальных, конструктивных, важнейших для всей книги раскрывается и утверждается родовое человеческое сознание, всего лишь один из феноменов (феномены – разновидности, разнообразие явления и выявления) которого есть толстовское роевое сознание. Во власти для героев «поры скошенных трав» имеется то, что в сущности своей им подобно. Но подобие это ими просто ещё не осознано. Ими не осознано, но достаточно ясно автору. Герои эти в сущности своей слабые и беззащитные люди, живущие своими заботами и горестями, а выживающие благодаря взаимопомощи своих близких, других подобных им людей. Эта жизнь в принципе своём несёт природу общечеловеческой партийности, не исключает партий и вождей.
Николай Димчевский объективно и беспристрастно, но с живым авторским сочувствием крупного прозаика-реалиста к своим персонажам анализирует многоплановое историческое время ушедшей эпохи, вводя не только художественное понятие, но и своеобразный стиль «поры скошенных трав». Стиль его появляющейся в 1990-м году книги передавал умственные искания российских интеллектуалов периода кризиса коммунистической системы и обновления евразийской государственности. Эта книга достойный памятник литературного периода конца восьмидесятых – начала восьмидесятых, горбачёвского времени гласности. Массовые финальные сцены этой книги предвосхитили реальные массовые сцены Москвы августа 1991 года, перекликаются с отражением этих сцен в мемуарах самого Николая Димчевского «Фантом века». Вместе с тем, книга прозы в стиле скошенных трав интересна не только на правах памятника своего времени и документа ушедшей в прошлое эпохи. Книга эта написана пером яркого, самобытного писателя, обладает непреходящей художественной ценностью, представляет подлинный интерес для всех интересующихся русской литературой, многообразием её гуманистических традиций и стилевых поисков.
Дмитрий ПЭН